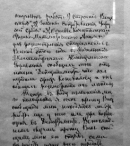21.02.2011 Мартыненко Ольга
Из показаний на следствии:
"По убеждениям своим я террорист, но был ли террористом по практической деятельности, предоставляю судить правительству. Я не считаю для себя возможным дать какие-либо сведения по предмету обвинения меня в Липецком съезде, в участии в покушении 19 ноября 1879 года в Москве и вообще на все вопросы по существу дела, так как моя жизнь до ареста была тесно связана с жизнью других лиц, и мои разъяснения, хотя бы они относились лично ко мне, могли бы повлиять на судьбу моих знакомых и друзей, как уже арестованных, так и находящихся на свободе".
19.02.2011 Мартыненко Ольга
АВТОБИОГРАФИЯ
Я родился 25 июня (7 июля н. ст.) 1854 г. в имении моих предков, Борке, Мологского уезда, Ярославской губернии. Отец мой был помещик, а мать — его крепостная крестьянка, которую он впервые увидал проездом через свое другое имение в Череповецком уезде Новгородской губернии. Он был почти юноша, едва достигший совершеннолетия и лишь недавно окончивший кадетский корпус. Но, несмотря на свою молодость, он был уже вполне самостоятельным человеком, потому что его отец и мать были взорваны своим собственным камердинером, подкатившим под их спальную комнату бочонок пороха, по романтическим причинам.
Моей матери было лет шестнадцать, когда она впервые встретилась с моим отцом и поразила его своей красотой и интеллигентным видом. Она была действительно исключительной по тем временам крестьянской девушкой, так как умела и читать, и писать, и прочла до встречи с ним уже много повестей и романов, имевшихся у ее отца-кузнеца, большого любителя чтения, и проводила свое время большею частью с дочерьми местного священника. Отец сейчас же выписал ее из крепостного состояния, приписал к мещанкам города Мологи и в первые месяцы много занимался ее дальнейшим обучением, и она вскоре перечитала всю библиотеку отца, заключавшую томов триста.
Когда я достиг двенадцатилетнего возраста, у меня уже было пять сестер, все моложе меня, а затем родился брат.
Я выучился читать под руководством матери, а потом бонны, гувернантки и гувернера и тоже перечитал большинство книг отцовской библиотеки, среди которых меня особенно растрогали “Инки” Мармонтеля и “Бедная Лиза” Карамзина и очаровал “Лесной бродяга” Габриеля Ферри в духе Фенимора Купера, а из поэтов пленил особенно Лермонтов. Но кроме литературы, я с юности увлекался также сильно и науками. Найдя в библиотеке отца два курса астрономии, я очень заинтересовался этим предметом и прочел обе книги, хотя и не понял их математической части. Найдя “Курс кораблестроительного искусства”, я заучил всю морскую терминологию и начал строить модельки кораблей, которые пускал плавать по лужам и в медных тазах, наблюдая действие парусов при их различных положениях.
Поступив затем во 2-й класс московской классической гимназии, я и там продолжал внеклассные занятия естественными науками, накупил на толкучке много научных книг и основал “тайное общество естествоиспытателей-гимназистов”, так как явные занятия этим предметом тогда преследовались в гимназиях. Это был период непомерного классицизма в министерство графа Дмитрия Толстого, и естественные науки с их дарвинизмом и “происхождением человека ют обезьяны” считались возбуждающими вольнодумство и потому враждебными церковному учению, а с ним и самодержавной власти русских монархов, якобы поставленных самим богом.
Само собой понятно, что мое увлечение такими науками и постоянно слышимые от “законоучителя” утверждения, что это науки еретические, которыми занимаются только “нигилисты”, не признающие ни бога, ни царя, сразу же насторожили меня как против церковных, так и против монархических доктрин. Я начал, кроме естественно-научных книг, читать также и имевшиеся в то время истории революционных движений, которые доставал, где только мог. Но все же я не оставлял при этом и своих постоянных естественно-научных занятий, для которых я уже с пятого класса начал бегать в Московский университет заниматься по праздникам в зоологическом и геологическом музеях, а также бегал на лекции, заменяя свою гимназическую форму обыкновенной одеждой тогдашних студентов. Я мечтал все время сделаться или доктором, или ученым исследователем, открывающим новые горизонты в науке, или великим путешественником, исследующим с опасностью для своей жизни неведомые тогда еще страны центральной Африки, внутренней Австралии, Тибета и полярные страны, и серьезно готовился к последнему намерению, перечитывая все путешествия, какие только мог достать.
Когда зимой 1874 г. началось известное движение студенчества “в народ”, на меня более всего повлияла романтическая обстановка, полная таинственного, при которой все это совершалось. Я познакомился с тогдашним радикальным студенчеством совершенно случайно, благодаря тому, что один из номеров рукописного журнала, издаваемого мною и наполненного на три четверти естественно-научными статьями (а на одну четверть стихотворениями радикального характера), попал в руки московского кружка “чайковцев”, как называло себя тайное общество, основанное Н. В. Чайковским, хотя он к тому времени уже уехал за границу. Особенно выдающимися представителями его были тогда Кравчинский, Шишко и Клеменц, произведшие на меня чрезвычайно сильное впечатление, а душой кружка была “Липа Алексеева”, поистине чарующая молодая женщина, каждый взгляд которой сверкал энтузиазмом. Во мне началась страшная борьба между стремлением продолжать свою подготовку к будущей научной деятельности и стремлением итти с ними на жизнь и на смерть и разделить их участь, которая представлялась мне трагической, так как я не верил в их победу. После недели мучительных колебаний я почувствовал, наконец, что потеряю к себе всякое уважение и не буду достоин служить науке, если оставлю их погибать, и решил присоединиться к ним.
Моим первым революционным делом было путешествие вместе с Н. А. Саблиным и Д. А. Клеменцом в имение жены Иванчина-Писарева в Даниловском уезде Ярославской губернии, где меня под видом сына московского дворника определили учеником в кузницу в селе Коптеве. Однако через месяц нам всем пришлось бежать из этой местности, так как наша деятельность среди крестьян стала известна правительству благодаря предательству одного из них.
После ряда романтических приключений ...мне удалось бежать благополучно в Москву, откуда я отправился распространять среди крестьян заграничные революционные издания в Курскую и Воронежскую губернии под видом московского рабочего, возвращающегося на родину. Я приехал обратно в Москву и потом отправился вместе с рабочим Союэовым для деятельности среди крестьян на его родину около Троицкой лавры; но и там произошло предательство, и мы оба ушли под видом пильщиков в Даниловский уезд, чтобы восстановить сношения с оставшимися там нашими сторонниками. Нам удалось это сделать, несмотря на то, что меня там усиленно разыскивала полиция. Я и Союзов по неделям, несмотря на рано наступившую зиму, ночевали в овинах, на сеновалах, под стогами сена в снегу, так что, наконец, Союзов заболел, и мы с ним отправились в Костромскую губернию под видом пильщиков леса и ночевали уже в обыкновенных избах. Однако здоровье Союзова так попортилось, что мы должны были возвратиться в Москву, куда мы перевезли из Даниловского уезда Ярославской губернии и типографский станок, на котором первоначально предполагали печатать противоправительственные книги в имении Иванчина-Писарева. Он был зарыт до того времени в лесу и потом был отвезен для тайной типографии на Кавказ.
Снова возвратившись в Москву, я участвовал там в попытке отбить на улице у жандармов вместе с Кравчинским и В. Лопатиным нашего товарища Волховского, но она не увенчалась успехом, и я вместе с Кравчинским уехал в Петербург, откуда меня отправили в Женеву участвовать в редактировании и издании революционного журнала “Работник” вместе с эмигрантами Эльсницем, Ралли, Жуковским и Гольденбергом. В то же время я начал сотрудничать и в журнале “Вперед”, издававшемся в Лондоне П. Л. Лавровым."
В 1928 году
В.Н.Фигнер:
"...Искренний, детски доверчивый мальчик, беспредельно преданный революции. В то время он хотел закалить свою волю: не тратил денег на отопление комнаты и терпел стужу», совершенно пренебрегал костюмом и жаловался только, что не может преодолеть свою любовь к фруктам."
Н.А.Морозов:
"Я возобновил свои научные занятия, уходя с книгами на островок Руссо посреди Роны при ее выходе из Женевского озера, но после полугодичного увлечения эмигрантской деятельностью почувствовал ее оторванность от почвы и в январе 1875 г. возвратился в Россию, причем был арестован при переходе границы под именем немецкого подданного Энгеля. Несмотря на мое пятидневное утверждение, что я и есть Энгель, меня, наконец, принудили назвать свою фамилию, арестовав переводившего меня через границу человека и заявив, что не отпустят его, пока я не скажу, кто я.
Меня привезли в Петербург, посадили сначала в особо изолированную камеру в темнице при “III Отделении собственной его императорского величества канцелярии” на Пантелеймонской улице, но, продержав некоторое время, перевезли в особое помещение из 10 одиночных камер, арендованное III Отделением в Коломенской части по причине огромного числа арестованных за “хождение в народ” в 1874—1875 гг.
Там проморили меня поистине жгучим голодом около месяца и отправили в Москву, в тамошнее “III Отделение его императорского величества канцелярии”. Там на допросе я, по примеру апостола Петра, решительно отрекся от знакомства со всеми своими друзьями и заявил, что не знаю никого из них и даже никогда и не слыхал о таких людях и о том, что необходимо низвергнуть царскую власть, а на вопрос, что я делал в усадьбе Иванчина-Писарева, ответил, что просто гостил и не заметил там решительно ничего противозаконного. Записав в протокол эти мои показания и убедившись, что все приставания и угрозы не могут меня сбить с этой позиции, меня не только не похвалили за отреченье от своих друзей и товарищей, но отправили в особый флигель, бывший против генерал-губернаторского дома во дворе Тверской части, тоже арендованный Третьим отделением, в изолированную камеру, объявив, что, пока я не буду давать искренние показания и не сознаюсь в знакомстве с подозреваемыми людьми, мне не будут давать никаких книг для чтения.
Вскоре о моем пребывании тут узнали мои товарищи, оставшиеся на свободе, и организовали несколько попыток для моего освобождения, но все они не могли осуществиться в решительные моменты, и меня через полгода перевезли в Петербург, в только что построенный дом предварительного заключения. В нем я, совершенно измученный неудовлетворяемой более полугода потребностью умственной жизни, получил, наконец, возможность заниматься. Я читал в буквальном смысле по целому тому в сутки, так что обменивавшие мне книги сторожа решили, что я совсем ничего не читаю, а только напрасно беру их. На мое счастье в дом предварительного заключения сразу же была перевезена какая-то значительная библиотека довольно разнообразного содержания и даже на нескольких языках, и, кроме того, была организована дамами-патронессами, сочувствовавшими нам, доставка научных книг из большой тогдашней библиотеки Черкесова и других таких же. Надо было только дать заказ через правление дома предварительного заключения. Я тотчас же принялся за изучение английского, потом итальянского и, наконец, испанского языков, которые мне дались очень легко благодаря тому, что со времени гимназии и жизни за границей я знал довольно хорошо французский, немецкий и латинский. Потом я закончил то, чего мне недоставало по среднему образованию, и, думая, что более мне уже не придется быть, как я мечтал, естествоиспытателем, принялся за изучение политической экономии, социологии, этнографии и первобытной культуры. Они возбудили во мне ряд мыслей, и я написал десятка полтора статей, которые, однако, потом все пропали. По истечении года отец, узнав, что я арестован, взял меня на поруки, и я поселился с ним в существующем до настоящего времени бывшем нашем доме № 25 по 12 линии Васильевского острова, купленном после смерти отца фон Дервизом.
Однако моя жизнь в отцовском доме продолжалась не более двух недель, так как следователь по особым делам получил от Третьего отделения “высочайшее” повеление вновь меня арестовать и держать в заточении до суда. Я вновь попал в ту же самую камеру и просидел в непрестанных занятиях математикой, физикой, механикой и другими науками еще два года, когда меня вместе с 192 товарищами по заточению предали суду особого присутствия сената с участием сословных представителей. Я отказался на суде давать какие бы то ни было показания и был присужден на год с четвертью заточения, но выпущен благодаря тому, что в этот срок мне засчитали три года предварительного заключения.
Я тотчас же скрылся от властей и, присоединившись к остаткам прежних товарищей, поехал сначала вместе с Верой Фигнер, Соловьевым, Богдановичем и Иванчиным-Писаревым в Саратовскую губернию подготовлять тамошних крестьян к революции. Но перспектива деятельности в деревне уже мало привлекала меня, и, после того как прошел целый месяц в безуспешных попытках устроиться, я возвратился в Петербург, откуда поехал вместе с Перовской, Александром Михайловым, Фроленко, Квятковским и несколькими другими в Харьков освобождать с оружием в руках Войнаральского, которого должны были перевезти через этот город в центральную тюрьму. Попытка эта произошла в нескольких верстах от города, но раненая тройка лошадей ускакала от освободителей с такой бешеной скоростью, что догнать ее не оказалось никакой возможности."
В.Н.Фигнер:
"Выступление с оружием в руках, нападения там, сям, повсюду, насильственное освобождение товарищей, попавших в руки правительства, как нельзя более соответствовали его пылкой натуре и давнишним мечтам о „геройских подвигах."
Н.А.Морозов:
"Мы спешно возвратились в Петербург, где мой друг Кравчинский подготовлял покушение на жизнь шефа жандармов Мезенцова, которому приписывалась инициатива тогдашних гонений. Мне не пришлось участвовать в этом предприятии, так как меня послали в Нижний Новгород организовать вооруженное освобождение Брешко-Брешковской, отправляемой в Сибирь на каторгу. Я там действительно все устроил, ожидая из Петербурга условленной телеграммы о ее выезде, но вместо того получил письмо, что ее отправили в Сибирь еще ранее моего приезда в Нижний Новгород, и в то же почти время я узнал из газет о казни в Одессе Ковальского с шестью товарищами, а через день — об убийстве в Петербурге на улице шефа жандармов Мезенцова, сразу поняв, что это сделал Кравчинский в ответ на казнь.
Я тотчас возвратился в Петербург, пригласив туда и найденных мною в Нижнем Новгороде Якимову и Халтурина, и вместе с Кравчинским и Клеменцом начал редактировать тайный революционный журнал, названный по инициативе Клеменца “Земля и воля” в память кружка того же имени, бывшего в 60-х годах.
После выхода первого же номера журнала нам пришлось отправить Кравчинского, как сильно разыскиваемого по делу Мезенцова, за границу, и взамен его был выписан из Закавказья Тихомиров, а до его приезда временно кооптирован в редакцию Плеханов. По выходе третьего номера был арестован Клеменц, произошло организованное нашей группой покушение Мирского на жизнь нового шефа жандармов Дрентельна, и приехал из Саратова остававшийся там после моего отъезда оттуда Соловьев: он заявил, что тайная деятельность среди крестьян стала совершенно невозможной, благодаря пробудившейся бдительности политического сыска, и он решил пожертвовать своей жизнью за жизнь верховного виновника всех совершающихся политических гонений — императора Александра II. Это заявление встретило горячее сочувствие в Александре Михайлове, Квятковском, во мне и некоторых других, а среди остальных товарищей, во главе которых встали Плеханов и Михаил Попов, намерение Соловьева вызвало энергичное противодействие, как могущее погубить всю пропагандистскую деятельность среди крестьян и рабочих. Они оказались в большинстве и запретили нам воспользоваться для помощи Соловьеву содержавшимся в татерсале нашим рысаком “Варвар”, на котором был освобожден Кропоткин и спасся Кравчинский после убийства Мезенцова.
Так началось то разногласие в двух группах “Земля и воля”, которое потом привело к ее распадению на “Народную волю” и “Черный передел”.В Петербурге начались многочисленные аресты, вследствие
которых мои товарищи послали меня в Финляндию, в школу-пансион Быковой, где я прожил первые две недели после покушения Соловьева и познакомился с Анной Павловной Корба, которая вслед затем приняла деятельное участие в революционной деятельности, а через нее сошелся и с писателем
Михайловским, который обещал писать для нашего журнала. В это же время Плеханов и Попов, уехавшие в Саратов, организовали съезд в Воронеже, чтоб решить, какого из двух представившихся нам путей следует держаться. Уверенные, что нас исключат из “Земли и воли”, мы (которых называли “по
литиками” в противоположность остальным — “экономистам”) решили за неделю до начала Воронежского съезда сделать свой тайный съезд в Липецке, пригласив на него и отдельно державшиеся группы киевлян и одесситов того же направления, как и наше, чтобы после исключения сразу действовать, как уже готовая группа. Собравшись в Липецке, мы наметили дальнейшую программу своих действий в духе Соловьева. Но, приехав после этого в Воронеж, мы с удивлением увидели, что большинство провинциальных деятелей не только не думает нас исключать, но относится к нам вполне сочувственно. Только Плеханов и Попов держали себя непримиримо и остались в меньшинстве, а Плеханов даже ушел со съезда, заявив, что не может итти с нами.
В первый момент мы оказались в нелепом положении: мы были тайное общество в тайном обществе; но по возвращении в Петербург увидели, что образовавшаяся в “Земле и воле” щель была только замазана штукатуркой, но не срослась. “Народники” с Плехановым стали часто собираться особо, не приглашая нас, и мы тоже не приглашали их на свои собрания. К осени 1879 г. была организована, наконец, ликвидационная комиссия из немногих представителей той и другой группы, которая оформила раздел. Плеханов, бывший тогда еще народником, а не марксистом, организовал “Черный передел”, а мы — “Народную волю”, в которой редакторами журнала были выбраны я и Тихомиров.
В ту же осень были организованы нашей группой три покушения на жизнь Александра II: одно под руководством Фроленко в Одессе, другое под руководством Желябова на пути между Крымом и Москвой и третье в Москве под руководством Александра Михайлова, куда был временно командирован и я. Как известно, все три попытки кончились неудачей, и, чтобы закончить начатое дело, Ширяев и Кибальчич организовали динамитную мастерскую в Петербурге на Троицкой улице, приготовляя взрыв в Зимнем дворце, куда поступил слесарем приехавший из Нижнего вместе с Якимовой Халтурин. Я мало принимал в этом участия, так как находился тогда в сильно удрученном состоянии, отчасти благодаря двойственности своей натуры, одна половина которой влекла меня попрежнему в область чистой науки, а другая требовала как гражданского долга пойти вместе с товарищами до конца. Кроме того, у меня очень обострились теоретические, а отчасти и моральные разногласия с Тихомировым, который, казалось мне, недостаточно искренне ведет дело с товарищами и хочет захватить над ними диктаторскую власть, низведя их путем сосредоточения всех сведений о их деятельности только в распорядительной комиссии из трех человек на роль простых исполнителей поручений, цель которых им не известна.
В.Н. Фигнер:
"Деятельность и значение распорядительной комиссии, насколько я видела, были незначительны и не имели ничего общего с диктатурой."
Н.А.Морозов:
"Да и в статьях своих, казалось мне, он часто пишет не то, что думает и говорит иногда в интимном кругу.
В это же самое время была арестована наша типография, и моя обычная литературно-издательская деятельность прекратилась. Видя мое грустное состояние, товарищи решили отправить меня и Ольгу Любатович временно за границу с паспортами одних из наших знакомых, и Михайлов нарочно добыл мне вместе с Ольгой билет таким образом, чтобы ко дню, назначенному для взрыва в Зимнем дворце, мы были уже по ту сторону границы.
Так как при особенно критических событиях такие отъезды из центра уже практиковались нами и я сильно боялся за Ольгу Любатович, не хотевшую уезжать без меня, то сейчас же поехал и узнал о взрыве в Зимнем дворце из немецких телеграмм на пути в Вену.
Оттуда я отправился прямо в Женеву и поселился сначала вместе с Кравчинским и Любатович, а потом мы переехали в Кларан, где впервые близко сошлись с Кропоткиным. Написав там брошюру “Террористическая борьба”, где я пытался дать теоретическое обоснование наших действий, я поехал в Лондон, где познакомился через Гартмана с Марксом, и на возвратном пути в Россию был вторично арестован на прусской границе 28 января 1881 г. под именем студента Женевского университета Лакиера."
С.М.Кравчинский:
"Николай был арестован на прусской границе, около Вержболова, и заключен пока в местную тюрьму. Что произошло дальше, никто не знал, так как контрабандист со страху немедленно перебрался в Германию и сообщаемые им дальнейшие известия были в высшей степени сбивчивы: сначала думали, что Николай взят как дезертир, но потом прошел слух, что в дело вмешались жандармы: это уж пахло политикой.
Что касается самого ареста, то ясно было только одно: контрабандист тут был совершенно ни при чем. Он всячески оправдывался в письме и, выразив свое душевное огорчение по поводу случившегося, просил прислать немедля следуемые ему деньги. Арест, очевидно, произошел благодаря неосторожности самого Николая: просидев целый день где-то на чердаке, он не вытерпел наконец и вышел прогуляться. Это была непростительная, ребяческая оплошность."
Н.А.Морозов:
"Я был отправлен в Варшавскую цитадель, где товарищ по заключению стуком сообщил мне о гибели императора Александра II, и я был уверен, что теперь меня непременно казнят. Я тотчас же был привезен в Петербург, где в охранном отделении узнал из циничного рассказа одного из сыщиков в соседней комнате о казни Перовской и ее товарищей, и был переведен в дом предварительного заключения, где кто-то обнаружил жандармам мое настоящее имя, вероятно, Узнав по карточке, меня вызвали на допрос, прямо назвали по имени, а я отказался давать какие-либо показания, чтобы, говоря о себе, не повредить косвенно и товарищам. Меня пробовали сначала запугать, намекая на какие-то способы, которыми могут заставить меня все рассказать, а когда и это не помогло, отправили в Петропавловскую крепость, в изолированную камеру в первом изгибе нижнего коридора, и более не допрашивали ни разу.
Из показаний на следствии:
"По убеждениям своим я террорист, но был ли террористом по практической деятельности, предоставляю судить правительству. Я не считаю для себя возможным дать какие-либо сведения по предмету обвинения меня в Липецком съезде, в участии в покушении 19 ноября 1879 года в Москве и вообще на все вопросы по существу дела, так как моя жизнь до ареста была тесно связана с жизнью других лиц, и мои разъяснения, хотя бы они относились лично ко мне, могли бы повлиять на судьбу моих знакомых и друзей, как уже арестованных, так и находящихся на свободе".
На суде особого присутствия правительственного сената я не признал себя виновным ни в чем и до конца держался своего метода, как можно меньше говорить со своими врагами, благодаря чему меня и осудили только на пожизненное заточение в крепости, а тех, кто более или менее подробно описал им свою деятельность, — к смертной казни.
Письмо О.Любатович:
"Обо мне не беспокойся Я обещал тебе и сумею выпутаться теперь или после суда. Верь этому. Что я умру — невероятно; теперь, к сожалению, очень многие опасней меня.".
Через несколько дней после суда, часа в два ночи, ко мне в камеру Петропавловской крепости с грохотом отворилась дверь, и ворвалась толпа жандармов. Мне приказали скорей надеть куртку и туфли и, схватив под руки, потащили бегом по коридорам куда-то под землю. Потом взбежали снова вверх и, отворив дверь, выставили через какой-то узкий проход на двор. Там с обеих сторон выскочили ко мне из тьмы новые жандармы, схватили меня под мышки и побежали бегом по каким-то узким застенкам, так что мои ноги едва касались земли. Преграждавшие проход ворота отворялись при нашем приближении как бы сами собою, тащившие меня выскочили на узенький мостик, вода мелькнула направо и налево, а потом мы вбежали в новые ворота, в новый узкий коридор и, наконец, очутились в камере, где стояли стол, табурет и кровать.
Тут я впервые увидел при свете лампы сопровождавшего меня жандармского капитана зверского вида (известного Соколова), который объявил, что это—место моего пожизненного заточения, что за всякий шум и попытки сношений я буду строго наказан и что мне будут говорить “ты”. Я ничего не отвечал и, когда дверь заперлась за ним, тотчас же лег на кровать и закутался в одеяло, потому что страшно озяб при пробеге в холодную мартовскую ночь почти без одежды в это новое помещение — Алексеевский равелин Петропавловской крепости, бывшее жилище декабристов.
Началась трехлетняя пытка посредством недостаточной пищи, отсутствия воздуха, так как нас совсем не выпускали из камер, вследствие чего у меня и у одиннадцати товарищей, посаженных со мною, началась цынга, проявившаяся страшной опухолью ног; три раза нас вылечивали от нее, прибавив к недостаточной пище кружку молока, и в продолжение трех лет три раза снова вгоняли в нее, отняв эту кружку. На третий раз большинство заточенных по моему процессу умерло, а из четырех выздоровевших Арончик уже сошел с ума, и остались только Тригони, Фроленко и я, которых вместе с несколькими другими, привезенными позднее в равелин и потому менее пострадавшими, перевезли во вновь отстроенную для нас Шлиссельбургскую крепость.
В первое полугодие заточения в равелине нам не давали абсолютно никаких книг для чтения, а потом, вероятно благодаря предложению священника, которого к нам прислали для исповеди и увещания, стали давать религиозные. Я с жадностью набросился на них и через несколько месяцев прошел весь богословский факультет. Это была область, еще совершенно неведомая для меня, и я сразу увидел, какой богатый материал дает древняя церковная литература для рациональной разработки человеку, уже достаточно знакомому с астрономией, геофизикой, психологией и другими естественными науками. Поэтому я не сопротивлялся и дальнейшим посещениям священника, пока не перечитал все богословие, а потом (в Шлиссельбурге) перестал принимать его, как не представлявшего по малой интеллигентности уже никакого интереса, и тяготясь необходимостью говорить, что только сомневаюсь в том, что для меня уже было несомненно (я говорил ему до тех пор, что недостаточно знаком с православной теологией, чтобы иметь о ней свое мнение, и желал бы познакомиться подробнее)."
В.Н.Фигнер:
"...Рассказывая в Шлиссельбурге об условиях этой ужасной жизни, Н. А. не без гордости говорил, что понимал прекрасно, что весь режим Алексеевского равелина имеет целью извести медленной смертью узников, заключенных в нем, и что это сознание заставляло его настойчиво сопротивляться болезни, одолевавшей его от постоянного голодания. Мучимый цынгою, преодолевая страшные колющие боли в ногах, он старался как можно более ходить. Да! Он ходил по камере и повторял в уме: "Меня хотят убить... а я все такн буду жить!..."
И он выжил, Несмотря на то, что многие годы харкал кровью и, казалось, неминуемо должен был погибнуть.
В.Вильмс:
"Морозов обманул медицинскую науку и меня и остался жив. Здоровье его удовлетворительно."
В.Н.Фигнер:
"Во все время заключения в Шлиссельбурге Н. А. сохранял полное самообладание и неизменную доброту. Для заключенных он был «третьей сестрой», как его в шутку называли товарищи (двумя первыми—были: Волкенштейн и я), к которым он всегда был готов придти со словами утешения; а за отменно учтивое обращение с жандармским персоналом его звали "Маркизом". Но самым употребительным прозвищем было название «Зодиак» за пристрастие к астрономии и поиски на небе так называемого «зодиакального света».
Н.А.Морозов:
"Тогда же сложились у меня сюжеты и моих будущих книг: “Откровение в грозе и буре”, “Пророки” и многие из глав, вошедших в I и II томы моей большой работы “Христос”. Но я был тогда еще бессилен для серьезной научной разработки Библии, так как не знал древнееврейского языка, и потому по приезде в Шлиссельбург воспользовался привезенными туда откуда-то университетскими учебниками и курсами, чтобы прежде всего закончить свое высшее образование, особенно по физико-математическому факультету, но в расширенном виде, и начал писать свои вышедшие потом книги: “Функция, наглядное изложение высшего математического анализа” и “Периодические системы строения вещества”, где я теоретически вывел существование еще не известных тогда гелия и его аналогов, а также и изотропов и установил периодическую систему углеводородных радикалов как основу органической жизни. Там же были написаны и некоторые другие мои книги: “Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам”, “Основы качественного физико-математического анализа”, “Векториальная алгебра” и т. д., напечатанные в первые же годы после моего освобождения или не напечатанные до сих пор..."
В.Н.Фигнер:
"Но сказать о Н. А., что он был неизменно мягок, добр и ровен — было бы сказать очень мало. Только первые, самые удручающие годы он был молчалив и всегда словно погружен в мечту или грезу. Но и тогда он находил силы утешатъ Буцевича, умиравшего от чахотки и данного ему в первые товарищи по прогулке. Когда же тюремные условия изменились к лучшему, Н. А. поражал своей живостью и веселостью.
В тюрьме, где все серо и однообразно, где видишь одни и те же лица и слышишь— в конце концов—все те же речи, добрый и веселый товарищ — сущий клад. Высокая фигура Н. А., в нескладном арестанском халате, обвешенная, во избежание простуди, какими-то тряпочками и увенченная серой шапкой с несуразным доморощенным козырьком, всегда вносила оживление и смех там, где появлялась. В молодости он не любил шуток и возмущался, когда люди постарше дозволяли себе их. Hо в тюрьме он сам стал шутить, при случае мистифицировал и выдумывал разные смешные история и положения.
В заточении, когда пропала возможность всякой практической деятельности, Н. А., отрешаясь от тяжелой действительности, погрузился в работу мысля. В тиши равелина в нем проснулся мыслитель, и тогда же в его уме зародились основные идеи по вопросу о строении вещества, которым он посвятил потом свое главное произведение. Но в равелине не давали письменных принадлежностей, и вся работа мысли оставалась в голове. Зато в Шлиссельбурге, когда стали давать научные книги и через три года разрешили карандаш и бумагу, Н. А. всецело отдался любимым занятиям.
В последние 10—12 лет этот узник с высохших телом, но с трепетавшей в его уме живой мыслью, с удивительной и трогательной настойчивостью, день за днем, обдумывал и набрасывал на бумагу гипотезы и соображения, делал бесконечные вычисления, составлял таблицы и схемы. Позади его была почти уже вся жизнь, а впереди— с холодной точки зрения. — одна безнадежность, ничем не отмеченная могила на маленькой косе у крепостной стены, где легли его товарищи, когда-то, как и он, полные энергии и силы, но сломленные чахоткой и цынгой...
Покачивая головой, Лопатин с соболезнованием спрашивал: “Уж нормален ли Морозов, погрузившийся в изучение Библии и писаний святых отцов, не уклон ли это в mania religiosa?” А Антонов с восторгом объявлял, что Морозов гениален и будет европейской известностью.
И все-таки он работал. Он мыслил и писал, одушевленный несокрушимой надеждой, что его идеи когда-нибудь да увидят свет. Порой, измученный, больной, в дружеском излиянии, он признавался, что источник жизни в нем иссякает, что сил у него остается мало, но это служило лишь стимулом к тому, чтобы спешить поскорее занести на бумагу все, что он имеет сказать и что может внести хоть небольшую крупицу знания в общую сокровищницу человеческой мысли.
...Он верит с трогательным упованием в свою научную миссию и только и думает, как бы его сочинения увидали свет. Работает над ними он с изумительной настойчивостью и систематичностью. Есть что-то почтенное и вместе трогательное в этой судьбе одинокого узника, вечно парящего в сфере отвлеченной мысли в этой безрадостной жизни, фанатически отдающей себя служению науке и через нее человечеству, в этом неустанном стремлении к истине, которая, быть может, никогда не выйдет за пределы четырех стен".
Н.А.Морозов:
"Революционная вспышка 1905 г., бывшая результатом японской войны, выбросила меня и моих товарищей из Шлиссельбургской крепости после 25-летнего заточения, и я почувствовал, что должен прежде всего опубликовать свои только что перечисленные научные работы, которые и начали выходить одна за другой. Почти тотчас же я встретил и полюбил одну молодую девушку, Ксению Бориславскую, которая ответила мне взаимностью и стала с тех пор самой нежной и заботливой спутницей моей новой жизни, освободив меня от всех житейских мелочных забот, чтобы я безраздельно мог отдаться исполнению своих научных замыслов.
Естественный факультет “Вольной высшей школы” избрал меня приват-доцентом по кафедре химии тотчас же после выхода моих “Периодических систем строения вещества”, а потом меня выбрали профессором аналитической химии, которую я и преподавал в Высшей вольной школе вплоть до ее закрытия правительством. Вместе с тем меня стали приглашать и для чтения публичных лекций почти все крупные города России, и я объездил ее, таким образом, почти всю.
В 1911 г. меня привлекли к суду Московской судебной палаты с сословными представителями за напечатание книги стихотворений “Звездные песни” и посадили на год в Двинскую крепость. Я воспользовался этим случаем, чтоб подучиться древнееврейскому языку для целесообразной разработки старозаветной Библии, и написал там четыре тома “Повестей моей жизни”, которые я довел до основания “Народной воли”, так как на этом месте окончился срок моего заточения."
Л.Н.Толстой, по прочтении их первой части:
"...Прочел с величайшим интересом и удовольствием. Очень сожалею, что нет их продолжения
...Талантливо написано. Интересно было взглянуть в душу революционеров. Очень поучителен был для меня этот Морозов."
Н.А.Морозов:
"Еще ранее этого я увлекся научным воздухоплаванием и авиацией и, поступив в аэроклуб, стал читать в его авиационной школе лекции о культурном и научном значении воздухоплавания и летанья и совершил ряд научных полетов, описанных в моей книге “Среди облаков.
В.Н.Фигнер:
"Азеф ...звал его не для революционной пропаганды. Нет! “Ваше имя, — говорил он Морозову, — будет привлекать молодежь, и это очень важно для партии”. Это было вскоре после выхода Морозова из Шлиссельбурга.
Морозов инстинктивно не доверял Азефу и отклонил предложение.
У Азефа под руками была целая партия, и все же ему были нужны мы, чтобы нашими руками загребать жар."
Н.А.Морозов:
"В то же время я был избран членом совета биологической лаборатории Лесгафта и профессором астрономии на открытых при ней Высших курсах Лесгафта, стал членом многих ученых обществ, а потом был приглашен прочесть курс мировой химии в Психоневрологическом институте, который продолжал вплоть до революции 1917 г. А перед этим, когда началась война, я был еще командирован “Русскими ведомостями” на передовые позиции западного фронта со званием “делегата Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам”, но в сущности для ознакомления публики с условиями жизни на войне. Из статеек, которые я посылал в эту газету, составилась потом моя книжка “На войне”. Но мое пребывание “под огнем” продолжалось не особенно долго: от жизни в землянках и окопах у меня началось воспаление легких, и я был спешно отправлен домой, в Петербург.
В 1917 г., в первые месяцы революции, у меня опять началась борьба между стремлением продолжать свои научные работы и ощущением долга — пожертвовать всем дорогим для закрепления достижений революции. Оставив на время научные работы, я участвовал на Московском государственном совещании, созванном в 1917 г., потом был членом Совета республики и участвовал в выборах в Учредительное собрание. Все это время я был тревожно настроен. Я предвидел уже неизбежность гражданской войны, бедствий голода и разрухи как ее результатов и потому сознательно занял примиряющую позицию среди враждующих между собою партий, но вскоре убедился, что это совершенно бесполезно и что удержать от эксцессов стихийный натиск взвол
19.02.2011 Yazva Factor
В.Н.Фигнер: "Однажды, когда мы жили в отеле «Zum Baren», Саблин пошел ко мне в комнату со словами:
- Поедемте в Женеву! Надо же, наконец, показать вам нашего Морозика.
Сказано—сделано. Я столько слыхала о Морозове от двух друзей его, что не могла отказаться от предстоящего удовольствия.
Мы приехали в Женеву и явились к «Hotel du Nord», где в то время жил мой будущий друг, Николай. Саблин провел меня в какую-то большую пустынного вида комнату, которая показалась мне совсем необитаемой: мебель была сдвинута к одному месту; за ширмами стояла кровать без подушки и одеяла, а воздух нетопленного, неуютного номера леденил кровь. Гостиница была, должно быть, не из важных. Сбросив теплое платье, мы двинулись наверх. Там, в маленькой комнатушке, в которой стоял такой же смертный холод, как и внизу, па диване сидел посипевший от стужи юноша, уткнувшись в какую-то, должно быть, очень интересную книгу... Морозов встал, высокий, тонкий, с характерно вытянутой несколько вперед головой. Красивый румянец ясно говорил, что ему всего 20 лет; милые детские губы чуть-чуть прикрывались темными усиками, а из-за очков смотрели ласковые и кроткие карие глаза. Кажется, достаточна было нам взглянуть друг на друга, чтоб объединиться во взаимной симпатии. Ну, право, —мы с первой минуты стали друзьями—и навсегда.
Нельзя было не полюбить Морозова, этого искреннего, детски доверчивого мальчика, беспредельно преданного революции. В нем не было ничего личного, и весь он был идеалистическое стремление к самоусовершенствованию на пользу революционного дела. Мне было 22 года, но в сравнении с ним я чувствовала себя много, много старшей и с нежностью сестры или даже матери всматривалась в его духовную личность. Морозов, но натуре любящий и мягкий, как-то естественно тяготел к обществу женщин. В Женеве он подружился со студентками с Кавказа и охотно пребывал в цветнике с Гурамовой, Като Николадзе и Церетелли.
На ряду с нежным общением с милыми барышнями Морозов тотчас же окунулся в окружающую жизнь: бегал на собрания секции Интернационала, конспирировал с редакторами газеты «Работник», писал, как и Саблин, статейки для этого издания.
Кроме того, ходил в университет и очень много читал.
В его характере и взглядах было еще много детского, но его наивные признания не вызывали во мне смеха, как у Саблина; напротив, они трогали; оттого он был со мной откровеннее, чем с вечно подшучивавшим товарищем. Помню, в один из приездов Морозова ко мне в Бери, во время какого-то разговора он, в порыве самообличения, с серьезной грустью жаловался на слабость воли: «Никак не могу победить себя,—говорил он,—люблю фрукты!..»
А истинный революционер, конечно, ведь должен быть выше всяких слабостей и пристрастий к земным благам...
С тем же желанием победы над плотью и стремлением закалить себя он в Женеве не тратил денег на отопление комнаты и терпел стужу, а костюмом пренебрегал настолько, что, как только он являлся ко мне в Берн в гости, я спешила купить ситцу, чтобы сшить ему рубашку, а старую сжигала в печке.
Романтизм, мечты о подвигах были в этот период столь же свойственны ему, как и в раннем детстве, о котором он писал в своей книжке «В начале жизни».
«Революционеры должны завести свой корабль, который будет пловучей революцией»,—поверял он мне ев он мечтанья. «Надо организовать военный отряд, какой был у Гарибальди, посадить его на корабль, и пусть он носится на водах океана, всегда готовый спустить десант в той стране, где надо защищать свободу и справедливость».
О критическом отношении к результатам хождения в парод и к собственным похождениям этого рода, как это выражено впоследствии «В начале жизни», он в то отдаленное время мне не говорил, как не было речи и об иной, новой постановке революционного дела в России. Об этом вообще тогда еще не думали, а сам Морозов, при возвращении в Россию, был арестован и оставался в тюрьме до начала 1878 года, когда уже в течение двух лет действовало общество «Земли и Воля». Весной 1875 года, проведя в Швейцарии всего несколько месяцев, Морозов стал тосковать и рваться в Россию. Видя его серьезное желание снова стать на революционную работу, я снабдила его деньгами на дорогу. Так как и Саблин решил уехать, то они отправились вдвоем. Но на границе им не посчастливилось. Предал ли их контрабандист, переводивший их, или при ожидании поезда на пограничной железнодорожной станции фигуры двух красивых молодых интеллигентов в не совсем обычном костюме и широкополых студенческих шляпах обратили внимание жандармов, только они были арестованы и, по выяснению личности, препровождены в Петербург, где спустя почти три года их обоих судили по «процессу 193-х». "
http://www.narovol.narod.ru/Person/morozov.htm
19.02.2011 Yazva Factor
Из показаний на следствии: "По убеждениям своим я террорист, но был ли террористом по практической деятельности, предоставляю судить правительству. Я не считаю для себя возможным дать какие-либо сведения по предмету обвинения меня в Липецком съезде, в участии в покушении 19 ноября 1879 года в Москве и вообще на все вопросы по существу дела, так как моя жизнь до ареста была тесно связана с жизнью других лиц, и мои разъяснения, хотя бы они относились лично ко мне, могли бы повлиять на судьбу моих знакомых и друзей, как уже арестованных, так и находящихся на свободе".
http://www.narovol.narod.ru/Person/morozov.htm